МОНАСТЫРИ РУСИ
На Руси монастыри стали учреждаться с самого начала официального
распространения христианства. Из Константинополя прибыли
многочисленные монахи, которые просто не могли прокормиться на родине
из-за переизбытка клерикального населения.
Сохранилось предание об основании греческими монахами Спасского
монастыря близ Вышгорода. Супрасльская летопись упоминает о монастыре
при основанной Владимиром Святославичем Десятинной
церкви в Киеве. Титмар Мерзебургский упоминает, что во время бывшего
в 1017 году пожара в Киеве из-за несчастного случая сгорел «Софийский
монастырь» («monasterium Sofhiae»), но слово «monasterium» в тогдашнем
языке могло означать не только монастырь, но и кафедральную церковь; в
этом случае речь идёт о Соборе Святой Софии (вероятно, ещё деревянной
церкви, предшествовавшей построенному при Ярославе каменному храму).
О Ярославе Владимировиче под 1037 году Лаврентьевская летопись говорит,
что при нём «черноризци почаша множитися и монастыреве починаху быти».
В 1051 году при участии вернувшегося с Афона Антония Печерского был
основан знаменитый Киево-Печерский монастырь. Согласно Киево-
Печерскому патерику, основатели монастыря Антоний и Феодосий уверяли,
что всякий, похороненный в монастыре, будет помилован, невзирая на его
грехи. Феодосий к этому прибавил: «Се елико же вас в монастыри сем умрет,
или игуменом где отослан, аще и грехи будет кто сотворил, аз имам перед
Богом за то отвещати». Распространилась вера в то, что судьба души после
смерти зависит от молитв живых за умерших, а молитва «непогребенных
мертвецов», то есть монахов, многократно действеннее прочих молитв. В
результате началась массовая передача имущества монастырям и открытие
новых монастырей. Князья и бояре передавали монастырям земли с
крестьянами, завещали «всю жизнь свою», то есть все свои имения.
В XII веке монастырей в Киеве было до 17, в Чернигове и Переяславе-
Хмельницком по четыре, в Галиче и Полоцке по три, в Смоленскe — пять. На
юге развитие монастырей задерживали постоянные
набеги половцев, печенегов и других кочевых народов; искавшие уединения
избирали поэтому более спокойные, безопасные места на севере России. Там,
главным образом, и развивается монашество. В Новгороде в XII веке было
около 20 монастырей, на территории Новгородской области — около десяти,
в Ростове — два, в Суздале — четыре, во Владимире — пять.
Монгольская эпоха
После батыева нашествия русское монашество наряду со всем народом
понесло колоссальные потери. Большинство монастырей домонгольской
Руси располагались в крупных городах или неподалёку от них, что сделало
их добычей захватчиков и стало причиной их разгрома и разорения,
повсеместно сопровождавшегося почти полным истреблением насельников.
Однако наиболее драматически на дальнейшем состоянии монашеской жизни
сказалась не только гибель тысяч русских иноков, но и то, что по этой
причине оказалась прерванной внутренняя связь поколений. Почти на
столетие были потеряны не только важнейшие навыки аскетической
практики, но и преданы забвению сами принципы, лежавшие в основе
монашества как особого феномена духовной жизни. Сама эпоха мало
располагала к монашеской жизни: большинство монастырей лежало в
развалинах, при том, что в любой момент можно было ожидать набега
ордынцев, и как следствие, нового разорения обители, гибели или угона в
ордынское рабство её насельников. Сведений о русских монастырях и
монашествующих 2-й половины XIII — 1-й половины XIV века сохранилось
ничтожно мало. Можно утверждать, что в это время на Руси почти исчезли
общежительные монастыри, которые всегда являлись основой
подвижнической жизни — школой, где новоначальный инок получал
базовые понятия о монашестве, формировал основные навыки молитвенно-
аскетической практики. В первое столетие после монгольского нашествия на
Руси преобладали особножительные обители. Поскольку большинство из них
были городскими или пригородными и к тому же являлись ктиторскими по
своему характеру (княжескими или боярскими), обстановка в них мало
способствовала аскетическим подвигам. Такие монастыри в большей степени
рассматривались как родовые некрополи и места, где богатые
постриженники могли тихо и мирно провести старость, встретить кончину и
в дальнейшем получить место постоянной заупокойной молитвы. Помимо
ктиторских, в данную эпоху существовали небольшие особножительные
монастыри, которые возникали вокруг приходских храмов, когда рядом с
ним строили свои кельи отдельные иноки. Со временем такая стихийно
возникшая обитель упорядочивала свою деятельность и начинала принимать
черты монастыря. Обитель могла быть «оптиной», то есть монастырём, где
жили как женщины, так и мужчины. Это могло возникать в случае, если
братия разорённого мужского монастыря находила приют в женской обители
или наоборот. В условиях всеобщей разрухи это подчас была единственная
возможность сохранить ту или иную монашескую общину при гибели
монастыря.
Лишь в середине — второй половине XIV века начинается стремительное и
масштабное возрождение русского монашества, которое стало возможным
прежде всего благодаря активной и целенаправленной деятельности
митрополита Алексия и исключительному по своей силе и глубине
подвигу Сергия Радонежского. До половины XV века, за полтора столетия,
было основано до 180 новых монастырей. Увеличению числа монастырей
способствовали, с одной стороны, льготы, которыми пользовалось
русское духовенство от татар, с другой — усиление религиозного чувства
под влиянием недавних ужасов татарского нашествия. Особое значение
получает Троицкий монастырь, основанный в середине XIV века Сергием
Радонежским. Из него расходились по северу России иноки, которые
основывали новые монастыри. Дионисий Суздальский (XIV в.) основал на
берегу Волги Печерский монастырь, его ученик Евфимий — Спасо-
Евфимиев, а Макарий Унженский, переходя с одного места на другое,
основал в костромских пределах 3 монастыря. В Новгороде по-прежнему
количество монастырей было больше, чем где-нибудь в другом месте; их
строили владыки, иноки и простые люди. Во время защиты города
от Дмитрия Донского новгородцы сожгли вокруг города 24 монастыря. В
одних монастырях насчитывалось до 300 иноков, в других было 5-6 и даже
по 2 монаха. Малые монастыри, в основном, не были самостоятельны, но
зависели от больших и управлялись их настоятелями.
В некоторых монастырях монахи и монахини жили вместе; иногда женские
монастыри приписывались к мужским и управлялись игуменами.
Общежительное устройство монастырей не было господствующим; в
значительной их части каждый монах имел своё хозяйство, жил отдельно, и
только для богослужения они сходились вместе. Таким характером
отличались преимущественно северные небольшие монастыри, имевшие от 2
до 10 братий.
Московское царство
В XV—XVI века насчитывают до 300 вновь основанных монастырей. Монах
свободно мог уходить из монастыря, не спрашивая ни у кого согласия,
избирал себе уединённое место, строил келью, собирал несколько душ
братии — и образовывался монастырь, на который не стоило уже большого
труда выхлопотать пожертвования от людей благочестивых. Богатые и
знатные люди иногда сами основывали свои монастыри, состоявшие в
полной от них зависимости. Большие обители высылали от себя как бы
монастыри-колонии — приписные монастыри, которые и оставались в их
заведовании. Иногда одни монастыри приписывались к другим по
распоряжению своего основателя или правительства.
В период с XV по XVII век были основаны, между прочим, следующие
монастыри: в Москве и её окрестностях — Новоспасский, Николаевский на
Угреши, Новодевичий; в Тверском краю — Калязинский, Троицкий
Селижаров; в Смоленском — Святотроицкий Болдинский; под
Казанью — Успенский Зилантов; в Новгородско-Псковской
земле — Троицкий Александро-Свирский, Тихвинский Успенский, Псково-
Печерский; в Двинской области — Антониев Сийский; в Белозерском
краю — Нилова пустынь и другие. Почти все более или менее значительные
монастыри, кроме северных, были общежительными. Некоторые обители
служили как бы приходскими церквями, имели свои приходы. В 1528
году архиепископом Новгородский Макарий, впоследствии митрополит
Московский, стремился ввести общежитие в северорусских монастырях, что
ему отчасти и удалось. Некоторые основатели монастырей по
примеру Феодосия Печерского, Кирилла Белозерского, Евфросина
Псковского сами писали уставы для своих монастырей (например, Иосиф
Волоцкий, Нил Сорский, Герасим Болдинский и др.), но общие основы
древнерусского монастырского быта были выработаны самой жизнью,
независимо от этих уставов.
Во главе монастырской общины стоял настоятель
(строитель, игумен, архимандрит; в женских монастырях —
строительница, игуменья) и собор из лучших братий. Настоятели
обыкновенно избирались монастырским собором, но могли назначаться
и епархиальным архиереем, если монастырь от него зависел. Настоятели
знатнейших монастырей утверждались в своей должности, а иногда и
назначались самим царём. Без благословения настоятеля ничего не могло
быть предпринято монастырём, но он должен был совещаться с собором.
Хозяйственная часть была сосредоточена в руках келаря, который
ведал монастырские вотчины, все доходы, расходы и сборы и для этого имел
многих помощников; казной монастыря заведовал казначей. Для управления
сёлами посылались особые лица. Все должностные лица выбирались
монастырской общиной. Письменные дела монастыря
ведал дьяк или подьячий, по судебным делам монастыря ходатайствовал
его стряпчий. Приём в монастыри был свободный, но от поступающего
требовалось внесение известной суммы «вклада» деньгами или же другим
имуществом. Только лица, внёсшие вклад, считались действительными
членами монастырской общины; принятые без вклада, «Бога ради», не
принимали участия в монастырской жизни и составляли тот бродячий
монашеский элемент, который был так силён в древней Руси и с которым так
упорно и напрасно боролась духовная иерархия. Стоглав предписал
принимать в монастыри и без вклада «приходящих с верой и страхом
Божиим». Тот же Стоглав уничтожил было несудимые грамоты монастырей,
освобождавшие последние от суда епархиального архиерея; но на практике
это уничтожение не имело значения. Подчиняясь в духовных делах своему
архиерею, большая часть привилегированных монастырей находилась под
покровительством князей, царя, митрополита Московского или архиереев из
других епархий. Покровительство это доходило иногда до злоупотреблений,
так как патроны смотрели на монастыри как на доходную статью.
Монастыри, находившиеся под покровительством царя, ведались в Приказе
Большого дворца, где давался им суд и велась опись их
имуществу. Цари, митрополиты и архиереи, как патроны, наблюдали иногда
за благочинием монастырей, писали им послания (например, послание Ивана
Грозного в Кириллов Белозерский монастырь), требовали соблюдения
уставов и т. п. Такой приблизительно строй жизни русских монастырей
существовал и в XVII в., когда вновь возникло свыше 220 обителей.
Монастыри имели большое значение в древнерусской жизни, как
экономическое, так и религиозно-просветительное. Основание монастырей
служило одним из лучших средств для колонизации незаселённых
местностей. Пустынножители избирали обыкновенно для своего поселения
места, удалённые от человеческого жилья; возле них селился народ, и таким
образом возникал посёлок, разраставшийся впоследствии в крупное
поселение. Город Устюг, например, возник возле Гледенского
монастыря, Ветлуга — около Варнавинского, Кашин — около Калязинского.
Расширение монастырских земельных владений также способствовало
колонизационной деятельности монастырей: они разрабатывали пустыри,
сзывали на них жителей и заводили новые поселения. Увеличение богатств в
руках монастырей способствовало их благотворительной деятельности во
времена народных бедствий. В один из голодных годов Кириллов-
Белозерский, например, монастырь кормил ежедневно до 600
душ, Пафнутьев — до 1000 Возле монастырей были устроены богадельни,
гостиницы, больницы. Некоторые из обителей окружали себя каменными
стенами и служили надёжным оплотом против неприятелей, как, например,
монастыри Псково-Печерский, Соловецкий, Калязин, Тихвинский
и Троицко-Сергиевская лавра.
Из монастырей выходили проповедники, которые, рискуя жизнью, шли в
среду язычников и сеяли там семена христианской веры
(Исаия и Авраамий в земле Ростовской, Кукша у вятичей, Герасим
Вологодский в Вологодской земле, Авраамий Болгарский у булгар, Стефан
Пермский, Исаак, Герасим — у пермяков и др.). Многих из них постигла
мученическая смерть. Основанные некоторыми из них монастыри служили
оплотом для распространения и укрепления христианства среди
язычников. Коневский, например, монастырь содействовал
обращению чудских племён в христианство, Мурманский — лопарей, в
обращении которых позднее принимал деятельное участие и Соловецкий
монастырь, и т. п.
Монастыри были также деятельными распространителями религиозного
просвещения в древней Руси. На чтение и списывание книг монахи смотрели
как на богоугодное дело. При монастырях рано стали заводиться библиотеки,
а также и школы для обучения грамоте: грамотные люди были нужны, между
прочим, для совершения богослужения. При Андреевском женском
монастыре в Киеве княгиня Янка Всеволодовна завела училище для обучения
грамоте девиц. В первое время в монастырях занимались главным образом
переводами с греческого языка и перепиской книг с болгарских переводов.
Оригинальными русскими произведениями являются по преимуществу
проповедь и поучения, встречаются сказания и в повествовательном духе, а с
начала XII века — и летописание.
Влияли монастыри и своим примером, как проводники в жизнь без
компромиссов известных нравственных требований. Далеко не все иноки
были, однако, таковы. Уже Феодосий Печерский в своих поучениях обличает
иноков в лености к богослужению, в несоблюдении правил воздержания, в
собирании имения, в недовольстве одеждой и пищей, в ропоте на игумена за
то, что он на монастырские средства содержал сирот и бедных. С
увеличением числа монастырей и с ростом их льгот увеличивалось и
количество монахов, шедших в монастырь не по призванию, искавших в нём
лишь более спокойной, беззаботной жизни. Само стремление к
отшельничеству вело иногда к бродяжничеству и подрывало монастырскую
дисциплину. Вотчинные владения монастырей также немало способствовали
порче монастырских нравов: монахи становились во враждебные отношения
с крестьянами, тягались по судам и т. п.
Стоглавый собор разрешил монастырским властям ездить по сёлам только по
воскресеньям, со святой водой, или для важных земских дел. Запрещая
монахам держать хмельное питьё и вести особое хозяйство, собор допустил
исключение из этого правила для более знаменитых иноков и тем подорвал в
корне своё распоряжение. Иноки, постриженные поневоле или из знатных
фамилий, продолжали вести чисто светскую жизнь, к соблазну монастырской
братии. В XVII веке было замечено, что многие монастыри возникали без
видимой в них нужды и были малолюдны; их стали приписывать
к архиерейским домам. Когда во второй половине XVII веке некоторые из
малолюдных монастырей стали делаться распространителями
старообрядчества, собор 1681 года запретил строить вновь монастыри и
стремился уменьшить число существующих, закрывая их и сводя в большие,
общежительные. Соборы 1667 и 1681 годов, чтобы уменьшить число
тунеядцев и вообще постригающихся в монастыри ради материальных выгод,
постановили совершать пострижение только в монастырях и после законного
искуса (раньше нередки были пострижения в частных домах от разных
бродячих монахов, нередко даже самозванцев); запрещено было постригать
супругов без взаимного их согласия; бродячих монахов велено было ловить и
заключать в монастыри для исправления. Чтобы уединить женские
монастыри от мира, собор 1681 года запретил монахиням вступаться в
управление своими вотчинами: они должны были держать для этого особых
доверенных людей.
XVIII век
При Петре I (1682—1725) положение русских монастырей серьёзно
осложнилось, так как он видел в монашествующих консервативных
противников своих глобальных преобразований. Пётр I смотрел на монахов
как на людей, которые «поедают чужие труды», от которых являются, сверх
того, «забобоны, ереси и суеверия». Регламент духовной коллегии содержит
в себе постановление не строить без разрешения государя и Святейшего
Синода новых монастырей, старые сводить вместе, а церкви их обращать в
приходские. Синод должен был искоренять предрассудок русских людей,
будто можно было спастись только через пострижение.
В 1723 году был издан указ, вовсе запрещавший пострижение монахов; на
убылые места было повелено помещать в монастыри инвалидов, нищих,
калек. Указ этот, грозивший уничтожением монашества в России, был,
впрочем, скоро отменён. Чтобы прекратить бродяжничество монахов,
запрещён был переход из одного монастыря в другой; архиереи, принося
присягу, обещались не допускать бродяжничества монахов; священники
должны были ловить бродячих монахов и представлять их в архиерейский
дом; для поимки их наряжались особые сыщики из Монастырского приказа,
из чиновников гражданских и военных. Настоятелями монастырей могли
быть назначаемы только лица, известные правительству, причём они
обязывались не держать в монастырях «затворников-ханжей» и других
распространителей суеверий. Монахам запрещалось держать чернила и
писать что-нибудь без ведома настоятеля. Монах мог отлучаться из
монастыря не более четырёх раз в год и то с особого каждый раз разрешения
настоятеля; не иначе как с дозволения последнего и только при свидетелях
мог он принимать гостей.
Такие строгие меры Петра против монашества объясняются, главным
образом, тем, что среди монахов Пётр I встретил наиболее сильное и упорное
противодействие своим реформам. Если при Петре монастыри не были
окончательно уничтожены, то по следующим двум основаниям, высказанным
в «Объявлении»: 1) они должны были служить для удовлетворения
религиозной потребности некоторых лиц, стремящихся к уединению, и 2) в
них избранные монахи должны были приготовляться к высшим духовным
должностям. Для этого при монастырях должны были учреждаться учёные
братства, школы. Неучёные монахи должны были заниматься каким-нибудь
трудом — столярным, иконописным и т. п.; монахини должны были прясть,
вышивать, плести кружева. При монастырях предполагалось открыть также
больницы, богадельни и воспитательные дома.
При Анне Иоанновне был возобновлён закон об уменьшении числа монахов.
Было запрещено постригать кого бы то ни было, кроме вдовых священников
и отставных солдат; наличных монахов велено было переписать. Перепись
эта, произведённая в 1732 году, открыла массу постригшихся вопреки
указам: их велено было расстригать и отдавать в солдаты. По свидетельству
Синода, в 1740 году в монастырях оставались только дряхлые и старики, ни к
какому богослужению не способные. Синод опасался, как бы монашество и
вовсе не прекратилось на Руси.
Законы Петра I были несколько смягчены при Елизавете Петровне. В 1760
году было разрешено постригаться в монашество лицам всех сословий. К
началу царствования Екатерины II в России насчитывалось до 1072
монастырей.
В 1764 году были введены штаты, и число монастырей значительно
уменьшилось (см. Монастырские вотчины). Здания закрытых монастырей
обращались в казармы, госпитали и т. п. Новые монастыри строились только
с высочайшего разрешения. Число монахов во многих монастырях
вследствие скудности их средств не увеличивалось и даже уменьшалось,
часто не достигая цифры, положенной по штатам. Во всех монастырях Синод
старался вводить общежитие с целью способствовать поднятию
монастырской нравственности.
Согласно «Духовным штатам», изданным Екатериной II 26 февраля 1764
года, все монастыри, владевшие вотчинами и не упразднённые, за
исключением лавр (Троице-Сергиевская и Киево-Печерская) и тех из них,
которые сделаны были кафедральными, то есть предназначены для архиереев
(Александро-Невский, Чудов, Рождественский-Владимирский, Ипатьевский,
Спасо-Преображенский, Новгород-Северский), были разделены на три класса
и в них была установлена норма штатных монахов и монахинь.
Из среды монашествующих в этот период начинает выделяться учёное
монашество, пользующееся определёнными льготами и составляющее как бы
привилегированный класс монашества. Для него в 1766 году были отменены
указы Петра I, запрещавшие при монастырском общежитии иметь частную
собственность и распоряжаться ею, между прочим, посредством духовных
завещаний. Кроме содержания от монастырей, учёные монахи получали
также жалованье от школ, в которых состояли преподавателями. В 1799 году
издано повеление причислять их, по заслугам, в качестве соборных
иеромонахов к соборам богатых монастырей с правом пользования
кружечными доходами.
XIX век
распространения христианства. Из Константинополя прибыли
многочисленные монахи, которые просто не могли прокормиться на родине
из-за переизбытка клерикального населения.
Сохранилось предание об основании греческими монахами Спасского
монастыря близ Вышгорода. Супрасльская летопись упоминает о монастыре
при основанной Владимиром Святославичем Десятинной
церкви в Киеве. Титмар Мерзебургский упоминает, что во время бывшего
в 1017 году пожара в Киеве из-за несчастного случая сгорел «Софийский
монастырь» («monasterium Sofhiae»), но слово «monasterium» в тогдашнем
языке могло означать не только монастырь, но и кафедральную церковь; в
этом случае речь идёт о Соборе Святой Софии (вероятно, ещё деревянной
церкви, предшествовавшей построенному при Ярославе каменному храму).
О Ярославе Владимировиче под 1037 году Лаврентьевская летопись говорит,
что при нём «черноризци почаша множитися и монастыреве починаху быти».
В 1051 году при участии вернувшегося с Афона Антония Печерского был
основан знаменитый Киево-Печерский монастырь. Согласно Киево-
Печерскому патерику, основатели монастыря Антоний и Феодосий уверяли,
что всякий, похороненный в монастыре, будет помилован, невзирая на его
грехи. Феодосий к этому прибавил: «Се елико же вас в монастыри сем умрет,
или игуменом где отослан, аще и грехи будет кто сотворил, аз имам перед
Богом за то отвещати». Распространилась вера в то, что судьба души после
смерти зависит от молитв живых за умерших, а молитва «непогребенных
мертвецов», то есть монахов, многократно действеннее прочих молитв. В
результате началась массовая передача имущества монастырям и открытие
новых монастырей. Князья и бояре передавали монастырям земли с
крестьянами, завещали «всю жизнь свою», то есть все свои имения.
В XII веке монастырей в Киеве было до 17, в Чернигове и Переяславе-
Хмельницком по четыре, в Галиче и Полоцке по три, в Смоленскe — пять. На
юге развитие монастырей задерживали постоянные
набеги половцев, печенегов и других кочевых народов; искавшие уединения
избирали поэтому более спокойные, безопасные места на севере России. Там,
главным образом, и развивается монашество. В Новгороде в XII веке было
около 20 монастырей, на территории Новгородской области — около десяти,
в Ростове — два, в Суздале — четыре, во Владимире — пять.
Монгольская эпоха
После батыева нашествия русское монашество наряду со всем народом
понесло колоссальные потери. Большинство монастырей домонгольской
Руси располагались в крупных городах или неподалёку от них, что сделало
их добычей захватчиков и стало причиной их разгрома и разорения,
повсеместно сопровождавшегося почти полным истреблением насельников.
Однако наиболее драматически на дальнейшем состоянии монашеской жизни
сказалась не только гибель тысяч русских иноков, но и то, что по этой
причине оказалась прерванной внутренняя связь поколений. Почти на
столетие были потеряны не только важнейшие навыки аскетической
практики, но и преданы забвению сами принципы, лежавшие в основе
монашества как особого феномена духовной жизни. Сама эпоха мало
располагала к монашеской жизни: большинство монастырей лежало в
развалинах, при том, что в любой момент можно было ожидать набега
ордынцев, и как следствие, нового разорения обители, гибели или угона в
ордынское рабство её насельников. Сведений о русских монастырях и
монашествующих 2-й половины XIII — 1-й половины XIV века сохранилось
ничтожно мало. Можно утверждать, что в это время на Руси почти исчезли
общежительные монастыри, которые всегда являлись основой
подвижнической жизни — школой, где новоначальный инок получал
базовые понятия о монашестве, формировал основные навыки молитвенно-
аскетической практики. В первое столетие после монгольского нашествия на
Руси преобладали особножительные обители. Поскольку большинство из них
были городскими или пригородными и к тому же являлись ктиторскими по
своему характеру (княжескими или боярскими), обстановка в них мало
способствовала аскетическим подвигам. Такие монастыри в большей степени
рассматривались как родовые некрополи и места, где богатые
постриженники могли тихо и мирно провести старость, встретить кончину и
в дальнейшем получить место постоянной заупокойной молитвы. Помимо
ктиторских, в данную эпоху существовали небольшие особножительные
монастыри, которые возникали вокруг приходских храмов, когда рядом с
ним строили свои кельи отдельные иноки. Со временем такая стихийно
возникшая обитель упорядочивала свою деятельность и начинала принимать
черты монастыря. Обитель могла быть «оптиной», то есть монастырём, где
жили как женщины, так и мужчины. Это могло возникать в случае, если
братия разорённого мужского монастыря находила приют в женской обители
или наоборот. В условиях всеобщей разрухи это подчас была единственная
возможность сохранить ту или иную монашескую общину при гибели
монастыря.
Лишь в середине — второй половине XIV века начинается стремительное и
масштабное возрождение русского монашества, которое стало возможным
прежде всего благодаря активной и целенаправленной деятельности
митрополита Алексия и исключительному по своей силе и глубине
подвигу Сергия Радонежского. До половины XV века, за полтора столетия,
было основано до 180 новых монастырей. Увеличению числа монастырей
способствовали, с одной стороны, льготы, которыми пользовалось
русское духовенство от татар, с другой — усиление религиозного чувства
под влиянием недавних ужасов татарского нашествия. Особое значение
получает Троицкий монастырь, основанный в середине XIV века Сергием
Радонежским. Из него расходились по северу России иноки, которые
основывали новые монастыри. Дионисий Суздальский (XIV в.) основал на
берегу Волги Печерский монастырь, его ученик Евфимий — Спасо-
Евфимиев, а Макарий Унженский, переходя с одного места на другое,
основал в костромских пределах 3 монастыря. В Новгороде по-прежнему
количество монастырей было больше, чем где-нибудь в другом месте; их
строили владыки, иноки и простые люди. Во время защиты города
от Дмитрия Донского новгородцы сожгли вокруг города 24 монастыря. В
одних монастырях насчитывалось до 300 иноков, в других было 5-6 и даже
по 2 монаха. Малые монастыри, в основном, не были самостоятельны, но
зависели от больших и управлялись их настоятелями.
В некоторых монастырях монахи и монахини жили вместе; иногда женские
монастыри приписывались к мужским и управлялись игуменами.
Общежительное устройство монастырей не было господствующим; в
значительной их части каждый монах имел своё хозяйство, жил отдельно, и
только для богослужения они сходились вместе. Таким характером
отличались преимущественно северные небольшие монастыри, имевшие от 2
до 10 братий.
Московское царство
В XV—XVI века насчитывают до 300 вновь основанных монастырей. Монах
свободно мог уходить из монастыря, не спрашивая ни у кого согласия,
избирал себе уединённое место, строил келью, собирал несколько душ
братии — и образовывался монастырь, на который не стоило уже большого
труда выхлопотать пожертвования от людей благочестивых. Богатые и
знатные люди иногда сами основывали свои монастыри, состоявшие в
полной от них зависимости. Большие обители высылали от себя как бы
монастыри-колонии — приписные монастыри, которые и оставались в их
заведовании. Иногда одни монастыри приписывались к другим по
распоряжению своего основателя или правительства.
В период с XV по XVII век были основаны, между прочим, следующие
монастыри: в Москве и её окрестностях — Новоспасский, Николаевский на
Угреши, Новодевичий; в Тверском краю — Калязинский, Троицкий
Селижаров; в Смоленском — Святотроицкий Болдинский; под
Казанью — Успенский Зилантов; в Новгородско-Псковской
земле — Троицкий Александро-Свирский, Тихвинский Успенский, Псково-
Печерский; в Двинской области — Антониев Сийский; в Белозерском
краю — Нилова пустынь и другие. Почти все более или менее значительные
монастыри, кроме северных, были общежительными. Некоторые обители
служили как бы приходскими церквями, имели свои приходы. В 1528
году архиепископом Новгородский Макарий, впоследствии митрополит
Московский, стремился ввести общежитие в северорусских монастырях, что
ему отчасти и удалось. Некоторые основатели монастырей по
примеру Феодосия Печерского, Кирилла Белозерского, Евфросина
Псковского сами писали уставы для своих монастырей (например, Иосиф
Волоцкий, Нил Сорский, Герасим Болдинский и др.), но общие основы
древнерусского монастырского быта были выработаны самой жизнью,
независимо от этих уставов.
Во главе монастырской общины стоял настоятель
(строитель, игумен, архимандрит; в женских монастырях —
строительница, игуменья) и собор из лучших братий. Настоятели
обыкновенно избирались монастырским собором, но могли назначаться
и епархиальным архиереем, если монастырь от него зависел. Настоятели
знатнейших монастырей утверждались в своей должности, а иногда и
назначались самим царём. Без благословения настоятеля ничего не могло
быть предпринято монастырём, но он должен был совещаться с собором.
Хозяйственная часть была сосредоточена в руках келаря, который
ведал монастырские вотчины, все доходы, расходы и сборы и для этого имел
многих помощников; казной монастыря заведовал казначей. Для управления
сёлами посылались особые лица. Все должностные лица выбирались
монастырской общиной. Письменные дела монастыря
ведал дьяк или подьячий, по судебным делам монастыря ходатайствовал
его стряпчий. Приём в монастыри был свободный, но от поступающего
требовалось внесение известной суммы «вклада» деньгами или же другим
имуществом. Только лица, внёсшие вклад, считались действительными
членами монастырской общины; принятые без вклада, «Бога ради», не
принимали участия в монастырской жизни и составляли тот бродячий
монашеский элемент, который был так силён в древней Руси и с которым так
упорно и напрасно боролась духовная иерархия. Стоглав предписал
принимать в монастыри и без вклада «приходящих с верой и страхом
Божиим». Тот же Стоглав уничтожил было несудимые грамоты монастырей,
освобождавшие последние от суда епархиального архиерея; но на практике
это уничтожение не имело значения. Подчиняясь в духовных делах своему
архиерею, большая часть привилегированных монастырей находилась под
покровительством князей, царя, митрополита Московского или архиереев из
других епархий. Покровительство это доходило иногда до злоупотреблений,
так как патроны смотрели на монастыри как на доходную статью.
Монастыри, находившиеся под покровительством царя, ведались в Приказе
Большого дворца, где давался им суд и велась опись их
имуществу. Цари, митрополиты и архиереи, как патроны, наблюдали иногда
за благочинием монастырей, писали им послания (например, послание Ивана
Грозного в Кириллов Белозерский монастырь), требовали соблюдения
уставов и т. п. Такой приблизительно строй жизни русских монастырей
существовал и в XVII в., когда вновь возникло свыше 220 обителей.
Монастыри имели большое значение в древнерусской жизни, как
экономическое, так и религиозно-просветительное. Основание монастырей
служило одним из лучших средств для колонизации незаселённых
местностей. Пустынножители избирали обыкновенно для своего поселения
места, удалённые от человеческого жилья; возле них селился народ, и таким
образом возникал посёлок, разраставшийся впоследствии в крупное
поселение. Город Устюг, например, возник возле Гледенского
монастыря, Ветлуга — около Варнавинского, Кашин — около Калязинского.
Расширение монастырских земельных владений также способствовало
колонизационной деятельности монастырей: они разрабатывали пустыри,
сзывали на них жителей и заводили новые поселения. Увеличение богатств в
руках монастырей способствовало их благотворительной деятельности во
времена народных бедствий. В один из голодных годов Кириллов-
Белозерский, например, монастырь кормил ежедневно до 600
душ, Пафнутьев — до 1000 Возле монастырей были устроены богадельни,
гостиницы, больницы. Некоторые из обителей окружали себя каменными
стенами и служили надёжным оплотом против неприятелей, как, например,
монастыри Псково-Печерский, Соловецкий, Калязин, Тихвинский
и Троицко-Сергиевская лавра.
Из монастырей выходили проповедники, которые, рискуя жизнью, шли в
среду язычников и сеяли там семена христианской веры
(Исаия и Авраамий в земле Ростовской, Кукша у вятичей, Герасим
Вологодский в Вологодской земле, Авраамий Болгарский у булгар, Стефан
Пермский, Исаак, Герасим — у пермяков и др.). Многих из них постигла
мученическая смерть. Основанные некоторыми из них монастыри служили
оплотом для распространения и укрепления христианства среди
язычников. Коневский, например, монастырь содействовал
обращению чудских племён в христианство, Мурманский — лопарей, в
обращении которых позднее принимал деятельное участие и Соловецкий
монастырь, и т. п.
Монастыри были также деятельными распространителями религиозного
просвещения в древней Руси. На чтение и списывание книг монахи смотрели
как на богоугодное дело. При монастырях рано стали заводиться библиотеки,
а также и школы для обучения грамоте: грамотные люди были нужны, между
прочим, для совершения богослужения. При Андреевском женском
монастыре в Киеве княгиня Янка Всеволодовна завела училище для обучения
грамоте девиц. В первое время в монастырях занимались главным образом
переводами с греческого языка и перепиской книг с болгарских переводов.
Оригинальными русскими произведениями являются по преимуществу
проповедь и поучения, встречаются сказания и в повествовательном духе, а с
начала XII века — и летописание.
Влияли монастыри и своим примером, как проводники в жизнь без
компромиссов известных нравственных требований. Далеко не все иноки
были, однако, таковы. Уже Феодосий Печерский в своих поучениях обличает
иноков в лености к богослужению, в несоблюдении правил воздержания, в
собирании имения, в недовольстве одеждой и пищей, в ропоте на игумена за
то, что он на монастырские средства содержал сирот и бедных. С
увеличением числа монастырей и с ростом их льгот увеличивалось и
количество монахов, шедших в монастырь не по призванию, искавших в нём
лишь более спокойной, беззаботной жизни. Само стремление к
отшельничеству вело иногда к бродяжничеству и подрывало монастырскую
дисциплину. Вотчинные владения монастырей также немало способствовали
порче монастырских нравов: монахи становились во враждебные отношения
с крестьянами, тягались по судам и т. п.
Стоглавый собор разрешил монастырским властям ездить по сёлам только по
воскресеньям, со святой водой, или для важных земских дел. Запрещая
монахам держать хмельное питьё и вести особое хозяйство, собор допустил
исключение из этого правила для более знаменитых иноков и тем подорвал в
корне своё распоряжение. Иноки, постриженные поневоле или из знатных
фамилий, продолжали вести чисто светскую жизнь, к соблазну монастырской
братии. В XVII веке было замечено, что многие монастыри возникали без
видимой в них нужды и были малолюдны; их стали приписывать
к архиерейским домам. Когда во второй половине XVII веке некоторые из
малолюдных монастырей стали делаться распространителями
старообрядчества, собор 1681 года запретил строить вновь монастыри и
стремился уменьшить число существующих, закрывая их и сводя в большие,
общежительные. Соборы 1667 и 1681 годов, чтобы уменьшить число
тунеядцев и вообще постригающихся в монастыри ради материальных выгод,
постановили совершать пострижение только в монастырях и после законного
искуса (раньше нередки были пострижения в частных домах от разных
бродячих монахов, нередко даже самозванцев); запрещено было постригать
супругов без взаимного их согласия; бродячих монахов велено было ловить и
заключать в монастыри для исправления. Чтобы уединить женские
монастыри от мира, собор 1681 года запретил монахиням вступаться в
управление своими вотчинами: они должны были держать для этого особых
доверенных людей.
XVIII век
При Петре I (1682—1725) положение русских монастырей серьёзно
осложнилось, так как он видел в монашествующих консервативных
противников своих глобальных преобразований. Пётр I смотрел на монахов
как на людей, которые «поедают чужие труды», от которых являются, сверх
того, «забобоны, ереси и суеверия». Регламент духовной коллегии содержит
в себе постановление не строить без разрешения государя и Святейшего
Синода новых монастырей, старые сводить вместе, а церкви их обращать в
приходские. Синод должен был искоренять предрассудок русских людей,
будто можно было спастись только через пострижение.
В 1723 году был издан указ, вовсе запрещавший пострижение монахов; на
убылые места было повелено помещать в монастыри инвалидов, нищих,
калек. Указ этот, грозивший уничтожением монашества в России, был,
впрочем, скоро отменён. Чтобы прекратить бродяжничество монахов,
запрещён был переход из одного монастыря в другой; архиереи, принося
присягу, обещались не допускать бродяжничества монахов; священники
должны были ловить бродячих монахов и представлять их в архиерейский
дом; для поимки их наряжались особые сыщики из Монастырского приказа,
из чиновников гражданских и военных. Настоятелями монастырей могли
быть назначаемы только лица, известные правительству, причём они
обязывались не держать в монастырях «затворников-ханжей» и других
распространителей суеверий. Монахам запрещалось держать чернила и
писать что-нибудь без ведома настоятеля. Монах мог отлучаться из
монастыря не более четырёх раз в год и то с особого каждый раз разрешения
настоятеля; не иначе как с дозволения последнего и только при свидетелях
мог он принимать гостей.
Такие строгие меры Петра против монашества объясняются, главным
образом, тем, что среди монахов Пётр I встретил наиболее сильное и упорное
противодействие своим реформам. Если при Петре монастыри не были
окончательно уничтожены, то по следующим двум основаниям, высказанным
в «Объявлении»: 1) они должны были служить для удовлетворения
религиозной потребности некоторых лиц, стремящихся к уединению, и 2) в
них избранные монахи должны были приготовляться к высшим духовным
должностям. Для этого при монастырях должны были учреждаться учёные
братства, школы. Неучёные монахи должны были заниматься каким-нибудь
трудом — столярным, иконописным и т. п.; монахини должны были прясть,
вышивать, плести кружева. При монастырях предполагалось открыть также
больницы, богадельни и воспитательные дома.
При Анне Иоанновне был возобновлён закон об уменьшении числа монахов.
Было запрещено постригать кого бы то ни было, кроме вдовых священников
и отставных солдат; наличных монахов велено было переписать. Перепись
эта, произведённая в 1732 году, открыла массу постригшихся вопреки
указам: их велено было расстригать и отдавать в солдаты. По свидетельству
Синода, в 1740 году в монастырях оставались только дряхлые и старики, ни к
какому богослужению не способные. Синод опасался, как бы монашество и
вовсе не прекратилось на Руси.
Законы Петра I были несколько смягчены при Елизавете Петровне. В 1760
году было разрешено постригаться в монашество лицам всех сословий. К
началу царствования Екатерины II в России насчитывалось до 1072
монастырей.
В 1764 году были введены штаты, и число монастырей значительно
уменьшилось (см. Монастырские вотчины). Здания закрытых монастырей
обращались в казармы, госпитали и т. п. Новые монастыри строились только
с высочайшего разрешения. Число монахов во многих монастырях
вследствие скудности их средств не увеличивалось и даже уменьшалось,
часто не достигая цифры, положенной по штатам. Во всех монастырях Синод
старался вводить общежитие с целью способствовать поднятию
монастырской нравственности.
Согласно «Духовным штатам», изданным Екатериной II 26 февраля 1764
года, все монастыри, владевшие вотчинами и не упразднённые, за
исключением лавр (Троице-Сергиевская и Киево-Печерская) и тех из них,
которые сделаны были кафедральными, то есть предназначены для архиереев
(Александро-Невский, Чудов, Рождественский-Владимирский, Ипатьевский,
Спасо-Преображенский, Новгород-Северский), были разделены на три класса
и в них была установлена норма штатных монахов и монахинь.
Из среды монашествующих в этот период начинает выделяться учёное
монашество, пользующееся определёнными льготами и составляющее как бы
привилегированный класс монашества. Для него в 1766 году были отменены
указы Петра I, запрещавшие при монастырском общежитии иметь частную
собственность и распоряжаться ею, между прочим, посредством духовных
завещаний. Кроме содержания от монастырей, учёные монахи получали
также жалованье от школ, в которых состояли преподавателями. В 1799 году
издано повеление причислять их, по заслугам, в качестве соборных
иеромонахов к соборам богатых монастырей с правом пользования
кружечными доходами.
XIX век
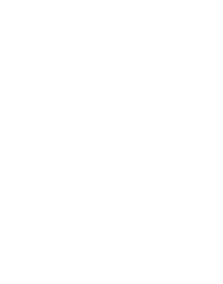
Николай Зацепин. Монастырки на клиросе. 1852
При Александре I, относившемся вообще с большими симпатиями к
монашеству, положение последнего значительно улучшилось. Городские
имущества монастырей освобождены от платежей и повинностей (кроме
фонарной и мостовой), а недвижимые имущества вне городов — от платежа
оброчных денег в казну. С 1812 года монастырские имущества были
освобождены от сборов, установленных манифестом 11 февраля в момент
самой настоятельной нужды государства в деньгах. Все это вело к
увеличению числа монахов.
В XIX веке штатных монастырей, в смысле штатов 1764 года, то есть с
определённым содержанием от казны, учреждалось весьма немного, но
общее число монастырей сильно возросло.
Всего более содействовало увеличению в течение XIX века числа
монастырей в России учреждение так называемых женских общин,
отличающихся от общежительных монастырей только тем, что члены
общины, не принимая монашеских обетов, исполняли все правила,
установленные для послушниц или белиц настоящих монастырей.
Обыкновенно настоятельницей общины являлась монахиня. Начало
возникновения женских общин относится к XVIII веку и совпадает с
изданием монастырских штатов. Случалось, что при упразднении монастыря
и переводе монахинь в оставленные по штатам монастыри часть послушниц,
за недостатком места в монастырях, не покидала своих келий при бывших
монастырских церквях, часть же удалялась в другие места, селилась около
приходских или кладбищенских церквей, исполняя обязанности просфирниц
и церковных сторожей. И в том, и в другом случае женщины эти продолжали
жить по монашескому уставу, и к ним присоединялись новые. В первое
время своего существования общины развивались без всякого внешнего
контроля, но мало-помалу на них стали обращать внимание духовные и
светские власти, а затем принимать их под своё покровительство. К
старейшим общинам принадлежит Алексеевская в Арзамасе, возникшая
тотчас по упразднении в 1764 году местного Алексеевского женского
монастыря, но признанная властями лишь в 1842 году.
В 1-й половине XIX столетия на пожертвования частных лиц и обществ
стали учреждаться богадельни, в которых вводился общежительный устав.
Нередко во главе таких учреждений становились сами основательницы,
например, вдова убитого при Бородине генерала Тучкова, устроившая
Спасско-Богородицкую общину.
Кроме того, в XIX веке правительство само устраивало женские общины,
главным образом в видах миссионерских (Лесненская Богородицкая
община в Царстве Польском). Общины часто переименовывались в
общежительные монастыри, иногда с причислением к одному из штатных
классов, причём ставится вновь возникаемому монастырю условием, чтобы
он учредил какое-либо богоугодное заведение: богадельню, приют,
лечебницу, школу и т. п. Всего таких общин в разное время по 1 июля 1896
года возникло (вернее — признано) 156, и из них в общежительные женскиемонастыри переименованы 104 (67,53 %). В это число входят и две общины
сестёр милосердия: Владычне-Покровская в Москве и Иоанно-Ильинская
в Пскове, которые также находились в ведении духовного начальства и
управляются игуменьями.
Ввиду многочисленности вновь возникающих общин и монастырей
Святейшему Синоду в 1881 году предоставлено окончательно решать дела об
учреждении женских общин и монастырей, без назначения окладов
содержания от казны, не повергая вопроса о том на высочайшее усмотрение.
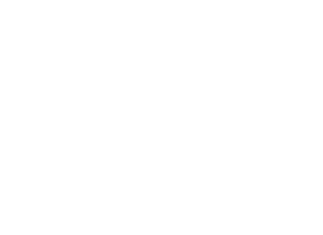
Группа монахов с настоятелем Филаретом в Благовещенском Керженском
единоверческом мужском скиту.
В XIX веке все монастыри в России разделялись на общежительные и
необщежительные, штатные и заштатные. В общежительных монастырях
монахи все необходимое получают от монастыря, а свой труд по
священнослужению в монастыре и разным монастырским «послушаниям» по
назначению настоятелей предоставляют в пользу монастыря; ни монахи, ни
должностные лица с настоятелем во главе не могут здесь ничем располагать
на правах собственности; настоятели избираются самими монашествующими
(имеющими полное монашеское посвящение). В монастырях
необщежительных монахи, имея общую трапезу от монастыря, одежду и все
прочее, необходимое для инока, приобретают сами на даваемое им
жалованье или на доходы от богослужений и от разного вида монастырского
«трудоделания», произведения которого могут идти в продажу (например,
выделка крестиков, икон и т. д.). Настоятели в эти монастыри назначаются
епархиальным архиереем с утверждения Святейшего Синода. Штатными
монастырями называются те, которые получают содержание в известных
определённых размерах и имеют в своём составе число монашествующих,
определённое по штату. Они разделяются на три класса по размерам
выдаваемого им содержания и по степени прав. В первом классе некоторыми
особенными привилегиями и правами выделяются четыре лавры и семь
монастырей ставропигиальных (Соловецкий, Симонов, Донской,
Новоспасский, Воскресенский — именуемый Новый Иерусалим,
Заиконоспасский и Спасо-Яковлевский). Название ставропигиальных
производят от слов σταύρος — крест и πήγνυμι — водружаю, и объясняют его
в том смысле, что при учреждении их крест в них водружён был самими
патриархами, в непосредственном управлении которых некоторые из них
сначала находились. Их преимущества ныне состоят в некоторых
архиерейских особенностях богослужения их архимандритов (например, в
праве осенять народ во время литургии трикирием и дикирием) и в том, что
они изъяты из подсудности епархиальных архиереев, находясь в
непосредственном заведовании Святейшего Синода или московской
синодальной конторы (московские ставропигиальные монастыри). В
управлении хозяйственными делами лавр принимает участие так наз.
«духовный собор» из старейших монашествующих, а во всех прочих
монастырях в управлении хозяйством настоятелю содействует «старейшая
братия». Внутренний строй монашеской жизни всех монастырей
регламентирован общими монашескими правилами, особыми уставами и
«инструкцией благочинному монастырей». При некоторых из первокл.
монастырей имеются, в некотором отдалении от них, в местах уединённых,
по нескольку келий для более строгой подвижнической жизни, совокупность
которых носит название скита (таковы, например, Анзерский
скит Соловецкого монастыря, Гефсиманский — Троице-Сергиевой лавры и
др.). Заштатными м-ми называются монастыри, не получающие жалованья и
существующие на доходы, добываемые священнослужением и трудами
самих монахов.
Наряду с умножением числа монастырей в XIX веке, возникали
предположения и о реформе их. В 1869 году Святейший Синод разослал
епархиальным архиереям для обсуждения записку, в которой признавалось
необходимым реформировать монастыри с целью устранить на будущее
время в обществе и литературе нарекания, направленные против монастырей.
Начало XX века
На 1 декабря 1907 года в Русской православной церкви насчитывалось 1105
монастырей. Из них 540 мужских (самостоятельных — 438, приписных —
102), 34 монастырских, архиерейских и патриарших подворий, 76
архиерейских домов, 367 женских монастырей (самостоятельных — 345,
приписных — 22), 61 женская община, 20 подворий и отделений женских
монастырей и общин. Общее количество монашествующих обоего пола в
России составляло 90 403 человека, из них 24 444 мужчины (монахов и
послушников) и 65 959 женщин (монахинь и послушниц).
По отчёту обер-прокурора Священного синода, в Российской империи
количество монастырей с 1902 по 1912 год увеличилось с 791 до 914, те есть
за 10 лет возникли 123 монастыря. Это значит, что в среднем каждый месяц
открывался новый монастырь.
В июле 1909 года в Троице-Сергиевой лавре прошёл Всероссийский
монашеский съезд, на котором была выработана обширная программа по
искоренению главных пороков монастырской жизни.
К 1917 году в Российской империи было около ста тысяч монашествующих
вместе с послушниками, трудниками и послушницами.